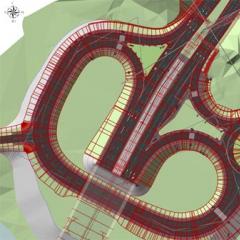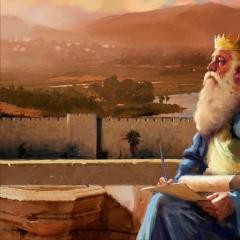Послание Патриарха Тихона чадам Православной Российской Церкви. Первые послания Патриарха Тихона Послания патриарха тихона читать
"От Меня это Было"
(Дyховное завещание иеросхимонаха Серафима Вырицкого)
Этот текст, написанный в стихотворной форме,
отец Серафим адресовал одномy их своих дyховных чад -
епископy, находящемyся в заключении.
В нем - отблеск глyбочайшей молитвенной тайны,
раскрываемой в беседе Бога с дyшою человека.
Это дyховное завещание старца, обращенное и ко всем нам.
* * *
Думал ли ты когда-либо, что всё, касающееся тебя, касается и Меня? Ибо касающееся тебя касается зеницы ока Моего.
Ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя, и поэтому для Меня составляет особую отраду воспитывать тебя. Когда искушения восстанут на тебя, и враг придет, как река, Я хочу, чтобы ты знал, что От Меня это было.
Что твоя немощь нуждается в Моей силе и что безопасность твоя заключается в том, чтобы дать Мне возможность бороться за тебя.
Находишься ли ты в трудных обстоятельствах, среди людей, которые тебя не понимают, которые не считаются с тем, что тебе приятно, которые тебя отстраняют, – От Меня это было.
Я – Бог твой, располагающий обстоятельствами.
Ты не случайно оказался на твоем месте, это то самое место, которое Я тебе назначил.
Не просил ли ты, чтобы Я научил тебя смирению,– так вот смотри, Я поставил тебя как раз в ту среду, в ту школу, где этот урок изучается. Твоя среда и живущие с тобою только выполняют Мою волю.
Находишься ли ты в денежном затруднении, тебе трудно сводить концы с концами, знай, что От Меня это было.
Ибо Я располагаю твоими материальными средствами. Я хочу, чтобы Ты прибегал ко Мне и был бы в зависимости от меня. Мои запасы неистощимы. Я хочу, чтобы ты убеждался в верности Моей и Моих обетований. Да не будет того, чтобы тебе могли сказать о нужде твоей: «Вы не верили Господу Богу вашему» (Втор. 1:32-33).
Переживаешь ли ты ночь скорбей, ты разлучен с близкими и дорогими сердцу твоему, – От Меня это было.
Я – муж скорбей, изведавший болезни, Я допустил это, чтобы ты обратился ко Мне и во Мне мог найти утешение вечное. Обманулся ли ты в друге твоем, в ком-нибудь, кому открыл сердце свое, – От Меня это было. Я допустил этому разочарованию коснуться тебя, чтобы ты познал, что лучший друг твой есть Господь. Я хочу, чтобы ты все приносил ко Мне и говорил Мне. Наклеветал ли кто на тебя предоставь это Мне и прильни ближе ко Мне, убежищу твоему, душою твоею, чтобы укрыться от «пререкания языков». Я «изведу, как свет, правду твою и судьбу твою, яко полудне» (Пс. 36:6). Разрушились ли планы твои, поник ли ты душою и устал – От Меня это было. Ты создавал себе свои планы и принес их Мне, чтобы я благословил их. Но я хочу, чтобы ты предоставил Мне распоряжаться обстоятельствами твоей жизни, и тогда ответственность за все будет на Мне, ибо слишком тяжело для тебя это, и ты один не можешь справиться с ними, так как ты только орудие, а не действующее лицо.
Посетили ли тебя неожиданные неудачи житейские и уныние охватило сердце твое, знай – От Меня это было.
Ибо Я хочу, чтобы сердце твое и душа твоя были всегда пламенеющими пред очами Моими и побеждали бы именем Моим всякое малодушие.
Не получаешь ты долго известий от близких и дорогих тебе людей и по малодушию твоему впадаешь в отчаяние и ропот, знай – От Меня это было. Ибо этим томлением твоего духа Я испытываю крепость веры твоей в непреложность обетования, силу дерзновенной твоей молитвы о сих близких тебе. Ибо не ты ли вручил их Покрову Матери Моея Пречистыя, не ты ли некогда возлагал заботу о них Моей промыслительной любви.
Посетила ли тебя тяжкая болезнь, временная или неисцельная, и ты оказался прикованным к одру своему – От Меня это было. Ибо Я хочу, чтобы ты познал Меня еще глубже в немощах своих телесных и не роптал бы за сие ниспосланное тебе испытание, не старался проникнуть в Мои планы спасения душ человеческих различными путями, но безропотно и покорно преклонил бы выю твою под благость Мoю к тебе. Мечтал ли ты сотворить какое-либо особенное дело для Меня и вместо того слег на одр болезни и немощи – От Меня это было.
Ибо тогда ты был бы погружен в дела свои и Я не мог бы привлечь мысли твои к Себе, а Я хочу научить тебя самым глубоким мыслям, что ты на службе у Меня. Я хочу научить тебя сознавать, что ты – ничто. Некоторые из лучших соработников Моих суть те, которые отрезаны от живой деятельности, чтобы им научиться владеть оружием непрестанной молитвы.
Призван ли ты неожиданно занять трудное и ответственное положение, иди полагаясь на Меня. Я вверяю тебе эти трудности, ибо за это благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих, на всех путях твоих, всем, что будет делаться твоими руками. В сей день даю в руку твою этот сосуд священного елея. Пользуйся им свободно, дитя Мое. Каждое возникающее затруднение, каждое оскорбляющее тебя слово, каждая помеха в твоей работе, которая могла бы вызвать чувство досады и разочарования, каждое откровение твоей немощи и неспособности пусть будут помазаны этим елеем – От Меня это было. Помни, что всякая помеха есть Божие наставление, и потому положи в сердце свое слово, которое Я объявил тебе в сей день, – От Меня это было.
Храни их, знай и помни – всегда, что всякое жало притупится, когда ты научишься во всем видеть Меня. Все послано Мною для совершенствования души твоей, – От Меня это было.
Божиею милостью Патриарх Московский и всея России Смиренный Тихон архипастырям, пастырям и пасомым Православной Церкви Российской
Благодать вам и мир от Господа да умножатся
Более года прошло, как вы, отцы [и] братья, не слышали слова моего... Тяжелое время переживали мы, и особенно тяжесть эта сильно сказывалась на мне в последние месяцы. Вы знаете, что бывший у нас Собор месяц тому назад постановил лишить меня не только сана Патриарха, но даже монашества, как "отступника от подлинных заветов Христа и предателя Церкви". Когда депутация Собора 8 мая объявила мне такое решение, я выразил протест, так как признал приговор неправильным и по форме, и по существу. По апостольскому правилу 74, епископ зовется на суд епископами; если он не послушает, зовется вторично через посылаемых к нему двух епископов; если опять не послушает, зовется в третий раз через двух, и, когда не явится, Собор произносит о нем решение, и он да не мнится выходу имети, бегая от суда. А меня не только не звали на суд, а даже не извещали о предстоящем суде, без чего формально и приговор не имеет силы и значения. Что касается существа дела, то мне ставят в вину, будто "я всю силу своего морального и церковного авторитета направлял на ниспровержение существующего гражданского и общественного строя нашей жизни”. Я, конечно, не выдавал себя за такого поклонника Советской власти, какими объявляют себя церковные обновленцы, возглавляемые нынешним Высшим Церковным Советом, но зато я и далеко не такой враг ее, каким они меня выставляют. Если я первый год существования Советской власти допускал иногда резкие выпады против нее, то делал это вследствие своего воспитания и господствовавшей на бывшем тогда Соборе ориентации. Но со временем многое у нас стало изменяться и выясняться, и теперь, например, приходится просить Советскую власть выступить на защиту обижаемых русских православных в Холмщине и Гродненщине, где поляки закрывают православные церкви. Я, впрочем, еще в начале 1919 года старался отмежевать Церковь от царизма и интервенции, а в сентябре того же 1919[-го] выпустил к архипастырям и пастырям воззвание о невмешательстве Церкви в политику и о повиновении распоряжениям Советской власти, буде они не противны вере и благочестию. Посему, когда нами узналось, [что] на Карловацком Соборе в ноябре 1921 года большинство вынесло решение о восстановлении династии Романовых, мы склонились к меньшинству о неуместности такого решения. А когда 6 марта 1922 года стало нам известно обращение Президиума Высшего Церковного Управления за границей о недопущении русских делегатов на Генуэзскую конференцию, мы упразднили самое это Управление, учрежденное с благословения Константинопольского Патриарха. Отсюда видно, что я не такой враг Советской власти и не такой контрреволюционер, как меня представляет Собор.
Все это, конечно, мною было бы раскрыто на Соборе, если бы меня туда позвали и спросили, как и следовало, чего, однако, не сделали. Вообще о Соборе не могу сказать похвального и утешительного. Во-первых, состав епископов его кажется мне странным. Из 67 прибывших архиереев мне ведомы человек 10-15. А где же прежние? В 16-м правиле двухкратного Константинопольского Собора говорится: "По причине случающихся в Церкви Божией распрей и смятений необходимо и сие определить: отнюдь да не поставляется епископ в той церкви, которой предстоятель жив еще и пребывает в своем достоинстве, разве сам добровольно отречется от епископства. То надлежит прежде привести к концу законное исследование вины, за которую он имеет удален быть, и тогда уже, по его низложении, вывести на епископство другого, вместо его”. А у нас просто устраняли и назначали других, часто вместо выборных.
Во-вторых, как на бывшем Соборе, так и в Пленуме Высшего Церковного Совета входят только "обновленцы", да и в Епархиальном Управлении не может быть член, не принадлежащий ни к какой из обновленческих групп (§ 7). Это уже "насилие" церковное... Кто и что такое церковные "обновленцы"? Вот что говорил о них еще в 1906 г[оду] мыслитель, писатель, ставший впоследствии священником, Вас. Свенцицкий: "Современное церковное движение можно назвать либеральным христианством, а либеральное христианство только полуистина. Душа, разгороженная на две камеры - религиозную и житейскую, не может целиком отдаться ни служению Богу, ни служению шру. В результате получается жалкая полуистина, тепло-прохладное либеральное христианство, в котором нет ни правды Божией, ни правды человеческой. Представители этого христианства лишены религиозного энтузиазма, среди них нет мучеников, обличителей пороков. И союз церковно-обновленных - это не первый луч грядущей апокалипсической жены, облеченной в союзе, а один из многих профессиональных союзов, и я убежден, - говорит Свенцицкий, - что настоящее религиозное движение будет не это и кажется оно совсем не так" (Вопросы религии. 1906. Вып. 1. С. 5-8).
И с этим нельзя не согласиться, если обратить внимание на то, что занимает наших обновленцев, что интересует их, к чему они стремятся. Прежде всего - выгоды, чины, награды. Несогласных с ними стараются устранить, создают себе должности и титулы, называют себя небывалыми митрополитами всея России, архипресвитерами всея России, из викарных поспешают в архиепископы... И пусть бы дело ограничивалось названиями. Нет, оно идет дальше и серьезнее. Вводится женатый епископат, второбрачие духовенства вопреки постановлениям Трульского собора, на что наш Поместный собор не имеет права без сношения с восточными патриархами, причем выражающие "против" лишаются слова. Будем уповать, что и у нас, как говорится в послании восточных патриархов, "хранитель благочестия есть тело церковное, т. е. народ", который не признает таких постановлений бывшего Собора.
Из постановлений его можно одобрить и благословить введение нового стиля календарного и в практику церковную. Об этом мы еще вопрошали Константинопольского патриарха в 1919 году, а нас просят Управления автономных церквей в Финляндии, Эстляндии.
Что касается моего отношения к Советской власти в настоящее время, то я уже определил его в своем заявлении на имя Верховного Суда, который я прошу изменить мне меру пресечения, т. е. освободить из-под стражи. В том преступлении, в котором я признаю себя виновным, по существу виновно то общество, которое меня, как главу Православной церкви, постоянно подбивало на активные выступления тем или иным путем против Советской власти. Отныне я определенно заявляю всем тем, что их усердие будет совершенно напрасным и бесплодным, ибо я решительно осуждаю всякое посягательство на Советскую власть, откуда бы оно ни исходило. Пусть все заграничные и внутренние монархисты и белогвардейцы поймут, что я Советской власти не враг. Я понял всю ту неправду и клевету, которой подвергается Советская власть со стороны ее соотечественных и иностранных врагов и которую они устно и письменно распространяют по всему свету. Не минули в этом обойти и меня: в газете "Новое время" от 5 мая за № 606 появилось сообщение, что будто бы мне при допросах чекистами была применена пытка электричеством. Я заявляю, что это сплошная ложь и очередная клевета на Советскую власть.
Бог мира и любви да будет с вами.
ПРОТОИЕРЕЙ ГЕОРГИЙ МИТРОФАНОВ
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
(1900-1927)
Первые послания Патриарха Тихона*
19 января 1918 года, в канун начала работы второй сессии Собора, как раз перед появлением декрета о свободе совести, появилось послание Патриарха Тихона. Это было уже не первое его послание. Дело в том, что какие бы там декреты в совнаркоме не придумывали, реальная политика большевистских властей уже себя проявила в ноябре-декабре 1917 года. Было очевидно, что и большевики не управляют пока ситуацией в стране, и народные массы, оказавшиеся без руководства со стороны государственной власти, стихийно совершают многие бесчиния. Очевидно было также, что без вовлечения в свою политику широких масс населения большевикам не удастся проводить свою политику в жизнь. Патриарх Тихон, отдавая себе отчет в том, что именно в этот период начинающихся гонений на Церковь многое будет зависеть от позиции народа, пишет несколько своих посланий, в которых прежде всего обращается к народу.
Патриарх удивительно прозорливо смог уже тогда, в первые месяцы существования большевистского произвола, обозначить все важнейшие проблемы как в церковной, так и в государственной жизни, указать причины разрушительных тенденций русской истории в это время. Вспомним его послание о вступлении на патриарший престол от 18 (31) декабря 1917 года. Казалось бы, оно должно быть исполнено радости по поводу того, что, наконец, у нас возрождено патриаршество. Что же пишет Патриарх?
В годину гнева Божия, в дни многоскорбные, многотрудные, вступили Мы на древлее место патриаршее. Испытания изнурительной войной и гибельная смута терзают Родину Нашу, скорби от нашествия иноплеменник и междоусобной брани. Но всего губительнее снедающая сердца смута духовная. Затемнились в совести народной христианские начала строительства государственного и общественного, ослабела и самая вера, неистовствует безбожный дух мира сего. От небрежения чад своих, от хладности сердец страждет Наша Святая Церковь, а с нею страждет и Наша Российская держава.
Это очень важный момент. Патриарх обращается к народу уже в этом первом послании. Он уповает в данном случае на то, что народ одумается, остановится, и тогда хаос в стране прекратится.
Проходит немного времени, две недели, и в своем слове, сказанном в храме Христа Спасителя перед началом новогоднего молебна, 1 (14) января 1918 года, святитель Тихон возвращается к той же теме.
Аще не Господь созиждет дом, всуе трудятся зиждущие его, напрасно рано встают и поздно просиживают (Пс. 126, 1-2). Это исполнилось в древности на вавилонских строителях. Сбывается днесь и воочию нашею. И наши строители желают сотворить себе имя , своими реформами и декретами облагодетельствовать не только несчастный русский народ, но и весь мир, и даже народы, гораздо более нас куль турные. И эту высокомерную затею их постигает та же участь, что и замыслы Вавилонян: вместо блага приносится горькое разочарование. Желая сделать нас богатыми и ни в чем не имеющими нужды, они, на самом деле, превращают нас в несчастных, жалких, нищих и нагих (Откр. 3,17). Вместо так еще недавно великой и могучей, страшной врагам и сильной России они сделали из нее одно жалкое имя, пустое место, разбив ее на части, пожирающие в междоусобной войне одна другую. Когда читаешь Плач Иеремии, невольно оплакиваешь словами пророка и нашу дорогую Родину. Забыли мы Господа! Бросились за новым счастьем, стали бегать за обманчивыми тенями, прильнули к земле, к хлебу, деньгам, упились вином свободы - и так, чтобы всего этого достать, как можно больше, взяли именно себе, чтобы другим не оставалось. Церковь осуждает такое наше строительство и Мы решительно предупреждаем, что успеха у нас не будет никакого до тех пор, пока не вспомним о Боге , без Которого ничего доброго не может быть сделано, пока не обратимся к Нему всем сердцем и всем помышлением своим . Теперь все чаще раздаются голоса, что не наши замыслы и строительные потуги, которыми мы были так богаты в мимошедшее лето, спасут Россию, а только чудо, -если мы будем достойны того.
Эти слова открывали качественно новый этап и в нашей церковной, и в нашей государственной жизни. Драматично, почти что в духе священномученика Ермогена, Патриарх взывает ко всем тем, кто еще не утерял ощущения своей связи с Православной Церковью, и кто количественно составляет большинство русского народа, к русским православным людям. Насколько тщетны были эти обращения тогда, сказать сложно, но Патриарх понимал, что пропало одно обращение, прошло другое, а все идет по нарастающей.
В канун открытия второй сессии Собора, 19 января (1 февраля) 1918 года, Патриарх пишет еще одно послание, послание самое резкое из им написанных в это время, послание, которое известно как «послание с анафемой».
Патриарх оказывается перед необходимостью анафемат ствовать, потому что его не слышат, и берет всю ответственность за это послание на себя, он от своего имени это послание составляет.
Тяжкое время переживает ныне Святая Православная Церковь Христова в Русской земле: гонение воздвигли на истину Христову явные и тайные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово, и вместо любви христианской всюду сеют семена злобы, ненависти и братоубийственной брани. Забыты и попраны заповеди Христовы о любви к ближним: ежедневно доходят до Нас известия об ужасных зверских избиениях ни в чем не повинных и даже на одре болезни лежащих людей, виновных только разве в том, что честно исполнили свой долг перед Родиной, что все силы свои полагали на служение благу народному.
В качестве иллюстрации к этим словам послания можно привести следующий эпизод. Известно, что последним Главнокомандующим русской армией был назначен генерал Духонин. Когда он узнал о том, что произошло в Петрограде, узнал о том, что к власти пришло правительство, готовящее сепаратный мир с Германией и уже развалившее армию, он понял, что судьба русской армии решена. Естественно, что даже в ставке Верховного Главнокомандующего начались настоящие бунты, ждали нового комиссара, который придет и санкционирует избиение офицеров солдатами. Духонин мужественно остался в Ставке, дав распоряжение об освобождении из Быхова генерала Корнилова, Деникина и других узников, которых в первую очередь должны были растерзать. Именно благодаря этому они смогли отправиться на Дон и организовать Белое движение как раз в то самое время, о котором мы говорим. А сам Духонин ждал своего конца. Приезжает новый Главнокомандующий, прапорщик Крыленко, и Духовина просто на глазах у этого Крыленко растерзали революционные солдаты с «передовым сознанием». И таких случаев было огромное количество. Убивали генералов, убивали офицеров, убивали чиновников, убивали священников. В послании это и имеется в виду.
...И все это совершается не только под покровом ночной темноты, но и въявь, при дневном свете, с неслыханной доселе дерзостию и беспощадною жестокостию, без всякого суда и с попранием всякого права и законности - совершается в наши дни во всех почти городах и весях нашей Отчизны: и в столицах, и на отдаленных окраинах. Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню геенскому в жизни будущей - загробной, и страшному проклятию потомства в жизни настоящей - земной. Властию, данной Нам от Бога, запрещаем вам приступать к Тайнам Христовым, анафематствуем вас, если только вы носите еще имена христианские, и хотя по рождению своему принадлежите к Церкви Православной. Заклинаю и всех вас, верных чад Православной Церкви Христовой, не вступать с таковыми извергами рода человеческого в какое-либо общение: «Измите злаго от вас самех».
Кого он анафематствует? Большевиков? Что за наивный Патриарх? Он, что же, предполагал, что, узнав об этой анафеме, Владимир Ильич вспомнит свою «пятерку» по «Закону Божию» и покается? А Иосиф Виссарионович вспомнит свои семинарские годы? Он достаточно хорошо представлял себе этих людей и понимал, что большевики, которые даже если по своему рождению являются православными, пренебрегут его словами, ибо они уже давно себя от церковного общения отлучили сами. Тем более это можно было сказать о бывшем католике Дзержинском, о бывшем иудаисте Троцком. Ни до своей веры, ни до чужой им дела не было. Конечно, Патриарх имеет в виду народ, руками которого эти люди хотят развязать в стране кровавый кошмар. О них он говорит, о тех, кто еще недавно причащался, о тех, кто еще не разучился молиться, о тех, у кого есть благочестивые семьи, которые, узнав об этой анафеме, остановят своих отцов, сыновей, братьев. Вот кого имеет в виду Патриарх, вот почему он прибегает к анафеме. Обратите внимание и на формулировку. Речь идет именно о тех, кто участвует в гонениях на Церковь и убивает невинных людей. Патриарх прекрасно знает: если народ остановится, большевики ничего не смогут сделать. И далее, в конце послания, Патриарх предлагает конкретные меры для христиан, как сопротивляться этим разрушительным тенденциям жизни, а они концентрируются, конечно, все больше и больше в большевистской диктатуре. Потом Патриарха будут обвинять в том, что он благословил вооруженное сопротивление большевикам, за то, что он стимулировал развитие контрреволюции этим посланием. Ничего подобного. Обратимся к тексту:
...Враги Церкви захватывают власть над Нею и Ее достоянием силой смертоносного оружия, а вы противостаньте им силою веры вашей, вашего властного всенародного вопля, который остановит безумцев и покажет им, что не имеют они права называть себя поборниками народного блага, строителями новой жизни по велению народного разума, ибо действуют, даже, прямо против совести народной. А если нужно будет и пострадать за дело Христово, зовем вас, возлюбленные чада Церкви, зовем вас на эти страдания вместе с собой словами св. Апостола: «Кто ны разлучит от любви Божия? Скорбь ли, или теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беда, или меч?» (Рим. 8,35)
А вы, братья архипастыри и пастыри, не медля ни одного часа в вашем духовном делании, с пламенной ревностию зовите чад ваших на защиту попираемых прав Церкви Православной, немедленно устрояйте духовные союзы, зовите не нуждою, а доброю волею становиться в ряды духовных борцов, которые силе внешней противопоставят силу своего святого воодушевления, и мы твердо уповаем, что враги Церкви будут посрамлены и расточатся силою Креста Христова. Ибо непреложно обетование Самого Божественного Крестоносца: «Созижду Церковь Мою, и врата адовы не одолеют Ей».
Здесь нет никаких призывов к вооруженной борьбе. Конечно, после этого Патриарх вправе был ожидать каких-то серьезных перемен в положении страны, тем более, что открывшийся Собор 20 января 1918 года сразу же обратился к посланию Патриарха Тихона и 22 января принял постанов ление, в котором одобрил содержание послания и придал ему тем самым силу соборного документа.
Теперь задумаемся. Соборно у нас анафематствовали тех, кто творил всю эту междоусобную смуту, творил все эти ужасы, из которых потом и выросла эта первая в мире рабоче-крестьянская государственность, поправшая всех и вся, в том числе и самих рабочих и крестьян. Пусть каждый из нас пороется в своей памяти родовой, семейной и вспомнит, что делали отцы, деды, прадеды в это время; может быть, и на них падает это анафематствование, и поэтому сделаем для себя какие-то выводы о том, что же нужно делать, как нужно замаливать эти грехи, о которых мы уже так благополучно забыли, как будто к нам это не имеет отношения. Тогда станет понятно, почему нам сейчас так трудно, - потому что мы еще должны искупать десятилетиями все это. Тем более, что Патриарха не услышали. И Собор не услышали. В это самое время, 19-21 января, осуществляется вооруженное вторжение в Александро-Невскую Лавру, и представитель революционного народа убивает протоиерея Петра Скипетрова. Тот хочет остановить его, рвущегося в храм с оружием, а он просто стреляет в обличающие его уста и смертельно ранит протоиерея Петра.
Собору тем временем предстоит обсуждать очень важный внутрицерковный вопрос. Создано Высшее Церковное управление, но вопросы епархиального управления еще не решены. В такой обстановке, учитывая, что на заседании Собора (пока по неизвестным причинам) не появился его почетный председатель митрополит Киевский Владимир (Богоявленский), начинается работа. 25 января 1918 года, после обсуждения декрета советской власти о свободе совести, который уже тогда чаще называли более справедливо декретом об отделении Церкви от государства, Собор принимает постановление, где было два чрезвычайно важных пункта.
Изданный Советом народных комиссаров декрет об отделении Церкви от государства представляет собой, под видом закона о свободе совести, злостное покушение на весь строй жизни Православной Церкви и акт открытого против нее гонения.
Совершенно верная формулировка. И дело было не только в том, что по своему конкретному содержанию декрет представлялся юридическим нонсенсом даже в сравнении с законами об отделении Церкви от государства в других странах, в которых они существовали. Дело было в том, что декрет действительно санкционировал гонения на Церковь, ибо его исполнение могло полностью парализовать всю церковную жизнь.
Всякое участие как в издании сего, враждебного Церкви узаконения, так и попытках провести его в жизнь несовместимо с принадлежностью к Православной Церкви и навлекает на виновных кары, вплоть до отлучения от Церкви.
Нужно сказать, что такая резкая позиция Собора была не только результатом естественной реакции на бесчинства, творимые в стране, на то, что большевистский режим с самого начала стал режимом богоборческим. Можно было и посдержаннее высказаться в этот момент. Но, во-первых, казалось, что этот кошмар долго не продлится и что банда немецких наймитов (именно так многие воспринимали, даже на Соборе, большевистскую диктатуру) скоро уйдет с политической арены. Во-вторых, казалось, что еще немножко, и народ одумается, и, как это было в 1612 году, ополчение, подобное ополчению Минина и Пожарского, придет в Петроград и положит конец государственному безумию, тем более, что в это самое время на Дону начала сражаться добровольческая армия, ничтожная еще по своему количеству (речь шла о нескольких тысячах человек), и эти несколько тысяч человек, казалось, станут залогом широкого антибольшевистского движения в России, которое объединит всех людей с чувством гражданской ответственности, с чувством, хоть самым малым, патриотического долга перед страной. Вот отсюда, может быть, столь резкое заявление.
Через день-два на Собор приходит сообщение об убийстве в Киеве митрополита Владимира 25 января 1918 года. Это, конечно, всех потрясло. Дело не в том, что митрополит Владимир был почетным председателем Собора, и даже не в том, что он был одним из авторитетных иерархов в нашей Церкви и первым убитым архиереем в XX веке, а в том, что обстоятельства его убийства были страшны. Страшны не тем, что его как-то там зверски убивали, его убивали так, как убивали многих, как уже убили, например, о. Иоанна Кочурова. Стреляли многократно, кололи штыками и бросили растерзанного на много часов на улице. Страшено было то, что небольшая кучка вооруженных людей не ворвалась, а вошла (им открыли ворота) в Киево-Печерскую Лавру, расположилась в Трапезной, монахи услужливо подавали им трапезу, они разговорились, выяснили, что главный «угнетатель» здесь митрополит Владимир, пришли к нему в покои, провели там несколько часов, разграбив все, что можно, издеваясь и глумясь над митрополитом, а потом спокойно вывели его и расстреляли недалеко от Лавры. Можно ли представить такую ситуацию: к архимандриту Дионисию в Троице-Сергиеву Лавру входят какие-нибудь поляки с казаками в 1610 году и на глазах у братии издеваются над ним несколько часов, потом уводят и убивают? Комментарии излишни. И только когда его уже увели, один из монахов сообразил позвонить в местные органы большевистской власти и сказать о том, что произошло. Ему сказали, что власти не осведомлены о происходящем. И только через много часов уже окоченевшего митрополита нашли убитым недалеко от Лавры. Конечно, торжественно перенесли в Лавру, торжественно отпели, похоронили, не задумавшись над тем, что его просто предали. Это было самое страшное. Я сейчас не буду говорить о мотивах этого, уже тогда в Украинской Церкви как раз и проявились автокефалистские настроения, и братия Лавры была распропагандирована автокефалами, а митрополит Владимир, который даже автономии для Украинской Церкви не хотел, был ярым врагом для автокефалистов. Тут объяснения можно найти разные, но важен сам факт.
По промыслу Божию Собор принял удивительное постановление 25 января 1918 года, как раз в день гибели митрополита Владимира. Постановление было принято на основе предложения Зб-ти членов Собора, а затем доработано. На него, конечно, очень сильно повлияло сообщение об убийстве митрополита Владимира. Это было постановление об установлении у нас института патриаршего местоблюстительства. Речь шла о следующем. В случае, если Церковь наша будет лишена возможности созвать Собор, если Патриарх будет устранен из церковной жизни, Церковь не должна остаться без возглавления. Собор уполномочил Патриарха, именно учитывая исключительность обстоятельств, назначить себе преемника, и не просто преемника, а преемника с полнотой патриарших прав, назначить его тайно, назначить не одного, а нескольких, дав каждому соответствующие грамоты, не сообщая об этом никому даже на Соборе. На Соборе через некоторое время было заявлено Патриархом о том, что поручение Собора выполнено, местоблюстители назначены. До сих пор мы точно не знаем, кто были эти, тайно назначенные, первые местоблюстители. Собор понимал, что Патриарха могут арестовать, могут убить, а сам Собор могут разогнать. И, действительно, Патриарх впервые был арестован уже в 1918 году.
Постановление о патриаршем местоблюстителе, который обладал всей полнотой патриарших прав, явилось решением, которое спасало наше Высшее Церковное управление в 20-30-х годах от разрушения канонического преемства высшей церковной власти, к чему очень стремились большевики. И Патриарх это принял, Патриарх это реализовал, назначив своих местоблюстителей.
Прежде, чем продолжить повествование, обратимся к личности Патриарха Тихона, к тому, что же он был за человек, каков был его жизненный путь до избрания в Патриархи, потому что, хотя Собор еще работал, все бремя власти полагалось теперь на Патриарха.
* Тексты посланий свмч. Патриарха Тихона даны по изданию: «Акты святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти». (Сост. М.Е. Губонин). М., 1994.
Уже 2 марта 1917г. члены Синода предали Помазанника Божьего и признали необходимым сотрудничество с самозванным новым правительством. Многие архиереи даже «выражали искреннюю радость по поводу наступления новой эры в жизни Православной Церкви»; 4 марта из зала заседаний было вынесено царское кресло. Возмездие Божие настигло быстро их...
С декабря 1917 г. большевики умножили захваты церковных зданий, храмов, монастырей, в январе 1918 г. конфисковали синодальную типографию, 13 января вынесли такое же постановление о конфискации Александро-Невской лавры.
19 января отряд красногвардейцев совершил нападение на лавру, при этом престарелый протоиерей Петр Скипетров, призвавший красноармейцев не осквернять святыни, был убит, а митрополит Петроградский Вениамин и наместник епископ Прокопий были арестованы.
В ответ на это в тот же день 19 января 1918 г. Патриарх Тихон выпускает свое знаменитое Послание с анафемой большевицкой власти и призывом к народному сопротивлению усиливающимся нападениям большевиков на храмы и убийствам духовенства:
«Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, это – поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню гееннскому в жизни будущей – загробной и страшному проклятию потомства в жизни настоящей – земной.
Властию, данною Нам от Бога, запрещаем вам приступать к Тайнам Христовым, анафематствуем вас, если только вы носите еще имена христианские и хотя по рождению своему принадлежите к Церкви Православной. Заклинаем и всех вас, верных чад Православной Церкви Христовой, не вступать с таковыми извергами рода человеческого в какие-либо общения...
Власть, обещавшая водворить на Руси право и правду, обеспечить свободу и порядок, проявляет всюду только самое разнузданное своеволие и сплошное насилие над всеми и, в частности, над святой церковью Православной. Где же предел этим издевательствам над церковью Христовой? Как и чем можно остановить это наступление на нее врагов неистовых?
Зовем всех вас верующих и верных чад церкви: станьте на защиту оскорбляемой и угнетаемой ныне святой матери нашей. Зовем всех вас, верующих и верных чад Церкви: станьте на защиту оскорбляемой и угнетаемой ныне Святой Матери нашей... А если нужно будет и пострадать за дело Христово, зовем вас, возлюбленные чада Церкви, зовем вас на эти страдания вместе с собою...
А вы, братие архипастыри и пастыри, не медля ни одного часа в вашем духовном делании, с пламенной ревностью зовите чад ваших на защиту попираемых ныне прав Церкви Православной, немедленно устрояйте духовные союзы, зовите не нуждою, а доброю волею становиться в ряды духовных борцов, которые силе внешней противопоставят силу своего святого воодушевления, и мы твердо уповаем, что враги Церкви будут посрамлены и расточатся силою Креста Христова, ибо непреложно обетование Самого Божественного Крестоносца: "Созижду Церковь Мою, и врата адовы не одолеют ее"».
Послание Патриарха Тихона было одобрено Поместным Собором на первом же заседании второй сессии Собора, открывшейся на следующий день 20 января 1918 г. Заседание было посвящено выработке мер противоборства действиям властей и защиты Церкви. Известие о патриаршей анафеме врагов Церкви и государства было разослано верующим через посланников Собора. Они зачитывали его в храмах, призывали к сплочению ради защиты Церкви.
Ответом большевиков на анафему стал принятый на следующий день декрет Совнаркома об "отделении Церкви от государства": точнее – Церковь была лишена прав юридического лица и всего имущества, созданного за предыдущее тысячелетие нашими предками. Была открыта "законная" дорога жидовскому холокосту над Русским православным народом.
Вот каков был результат предательства Помазанника Божьего церковным священноначалием РПЦ в 1917 году!
Духовное состояние России тогда выявилось в поведении высших архиереев Русской Православной Церкви. Они не осудили Февральской революции, не выступили в защиту Царя, не поддержали его духовно, а лишь подчинились Временному правительству, несмотря на призывы товарища обер-прокурора Н.Д. Жевахова и телеграммы некоторых отделений Союза русского народа к Синоду поддержать монархию.
Уже 2 марта члены Синода «признали необходимым немедленно войти в сношение с Исполнительным комитетом Государственной Думы», то есть с самозванным новым правительством. Многие архиереи даже «выражали искреннюю радость по поводу наступления новой эры в жизни Православной Церкви »; 4 марта из зала заседаний было вынесено царское кресло, которое являлось «символом порабощения Церкви государством» .
За редкими исключениями, архиереи удивительно поспешно определением от 7 марта вычеркнули имя Помазанника Божия из богослужебных книг и предписали вместо него поминать «благоверное Временное правительство», то есть никем не избранных для этой должности масонов-заговорщиков, которые в тот же день решили арестовать Царскую семью. Верховные архипастыри не вспомнили даже о клятвопреступлении , де-факто освободив армию и народ от присяги законному Царю, которую каждый служивший гражданин Империи приносил на Евангелии.
7 марта всем епархиям был разослан текст присяги новой власти со словами: «В заключение данной мною клятвы осеняю себя крестным знамением и нижеподписуюсь»; принятие присяги производилось с участием духовенства. И, наконец, в знаменитом Обращении СвятейшегоСинода от 9 марта говорилось:
«Свершилась воля Божия. Россия вступила на путь новой государственной жизни... доверьтесь Временному Правительству; все вместе и каждый в отдельности приложите усилия, чтобы трудами и подвигами, молитвою и повиновением облегчить ему великое дело водворения новых начал государственной жизни и общим разумом вывести Россию на путь истинной свободы, счастья и славы. Святейший Синод усердно молит Всемогущего Господа, да благословит Он труды и начинания Временного Российского Правительства...» .
Тем самым Синод, вместо призыва к соблюдению Основных законов и присяги Помазаннику Божию, совершил церковное оправдание революции ради земных благ «истинной свободы, счастья и славы». Синод мог хотя бы подчеркнуть временный и условный характер нового правительства, но архиереи еще до решения будущего Учредительного собрания (которое должно было решить вопрос о форме правления) сочли монархию безвозвратно упраздненною «волей Божией» и «общим разумом»; послание подписали все члены Синода, даже митрополиты Киевский Владимiр и Московский Макарий, имевшие репутацию монархистов-черносотенцев.
Такой призыв от имени Церкви парализовал сопротивление монархических организаций и православного церковного народа по всей стране. Лишь в немногих приходах продолжала звучать молитва о Государе и из немногих городов в Синод поступили запросы о присяге и призывы к сопротивлению революции. Бόльшая часть духовенства растерянно отмолчалась, а многие епархиальные собрания (во Владивостоке, Томске, Омске, Харькове, Туле) также приветствовали «новый строй». 12 июля Синод обратился с соответствующим посланием к гражданам России, «сбросившей с себя сковывавшие ее политические цепи»...
Неважно, сделали это архиереи под давлением масонской власти или из чувства своей "порабощенности" светской властью в соперничестве с нею. В любом случае это стало возможно из-за того, что даже возглавление Русской Церкви поддалось общему апостасийному процессу и утратило понимание удерживающей сути православной монархии. В этом и была главная причина революции: сначала она произошла в головах ведущего слоя. И это было главной причиной внутренней слабости России перед натиском ее врагов...
Первые послания Патриарха Тихона.
19 января 1918 года, в канун начала работы второй сессии Собора, как раз перед появлением декрета о свободе совести, появилось послание Патриарха Тихона. Это было уже не первое его послание. Дело в том, что какие бы там декреты в совнаркоме не придумывали, реальная политика большевистских властей уже себя проявила в ноябре–декабре 1917 года. Было очевидно, что и большевики не управляют пока ситуацией в стране, и народные массы, оказавшиеся без руководства со стороны государственной власти, стихийно совершают многие бесчиния. Очевидно было также, что без вовлечения в свою политику широких масс населения большевикам не удастся проводить свою политику в жизнь. Патриарх Тихон, отдавая себе отчет в том, что именно в этот период начинающихся гонений на Церковь многое будет зависеть от позиции народа, пишет несколько своих посланий, в которых прежде всего обращается к народу.
Патриарх удивительно прозорливо смог уже тогда, в первые месяцы существования большевистского произвола, обозначить все важнейшие проблемы как в церковной, так и в государственной жизни, указать причины разрушительных тенденций русской истории в это время. Вспомним его послание о вступлении на патриарший престол от 18 (31) декабря 1917 года. Казалось бы, оно должно быть исполнено радости по поводу того, что, наконец, у нас возрождено патриаршество. Что же пишет Патриарх?
В годину гнева Божия, в дни многоскорбные, многотрудные, вступили Мы на древлее место патриаршее. Испытания изнурительной войной и гибельная смута терзают Родину Нашу, скорби от нашествия иноплеменник и междоусобной брани. Но всего губительнее снедающая сердца смута духовная. Затемнились в совести народной христианские начала строительства государственного и общественного, ослабела и самая вера, неистовствует безбожный дух мира сего. От небрежения чад своих, от хладности сердец страждет Наша Святая Церковь, а с нею страждет и Наша Российская держава.
Это очень важный момент. Патриарх обращается к народу уже в этом первом послании. Он уповает в данном случае на то, что народ одумается, остановится, и тогда хаос в стране прекратится.
Проходит немного времени, две недели, и в своем слове, сказанном в храме Христа Спасителя перед началом новогоднего молебна, 1 (14) января 1918 года, святитель Тихон возвращается к той же теме.
Аще не Господь созиждет дом, всуе трудятся зиждущие его, напрасно рано встают и поздно просиживают (Пс. 126, 1–2). Это исполнилось в древности на вавилонских строителях. Сбывается днесь и воочию нашею. И наши строители желают сотворить себе имя, своими реформами и декретами облагодетельствовать не только несчастный русский народ, но и весь мир, и даже народы, гораздо более нас куль турные. И эту высокомерную затею их постигает та же участь, что и замыслы Вавилонян: вместо блага приносится горькое разочарование. Желая сделать нас богатыми и ни в чем не имеющими нужды, они, на самом деле, превращают нас в несчастных, жалких, нищих и нагих (Откр. 3,17). Вместо так еще недавно великой и могучей, страшной врагам и сильной России они сделали из нее одно жалкое имя, пустое место, разбив ее на части, пожирающие в междоусобной войне одна другую. Когда читаешь Плач Иеремии, невольно оплакиваешь словами пророка и нашу дорогую Родину. Забыли мы Господа! Бросились за новым счастьем, стали бегать за обманчивыми тенями, прильнули к земле, к хлебу, деньгам, упились вином свободы - и так, чтобы всего этого достать, как можно больше, взяли именно себе, чтобы другим не оставалось. Церковь осуждает такое наше строительство и Мы решительно предупреждаем, что успеха у нас не будет никакого до тех пор, пока не вспомним о Боге, без Которого ничего доброго не может быть сделано, пока не обратимся к Нему всем сердцем и всем помышлением своим. Теперь все чаще раздаются голоса, что не наши замыслы и строительные потуги, которыми мы были так богаты в мимошедшее лето, спасут Россию, а только чудо, - если мы будем достойны того.
Эти слова открывали качественно новый этап и в нашей церковной, и в нашей государственной жизни. Драматично, почти что в духе священномученика Ермогена, Патриарх взывает ко всем тем, кто еще не утерял ощущения своей связи с Православной Церковью, и кто количественно составляет большинство русского народа, к русским православным людям. Насколько тщетны были эти обращения тогда, сказать сложно, но Патриарх понимал, что пропало одно обращение, прошло другое, а все идет по нарастающей.
В канун открытия второй сессии Собора, 19 января (1 февраля) 1918 года, Патриарх пишет еще одно послание, послание самое резкое из им написанных в это время, послание, которое известно как «послание с анафемой».
Патриарх оказывается перед необходимостью анафемат ствовать, потому что его не слышат, и берет всю ответственность за это послание на себя, он от своего имени это послание составляет.
Тяжкое время переживает ныне Святая Православная Церковь Христова в Русской земле: гонение воздвигли на истину Христову явные и тайные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово, и вместо любви христианской всюду сеют семена злобы, ненависти и братоубийственной брани. Забыты и попраны заповеди Христовы о любви к ближним: ежедневно доходят до Нас известия об ужасных зверских избиениях ни в чем не повинных и даже на одре болезни лежащих людей, виновных только разве в том, что честно исполнили свой долг перед Родиной, что все силы свои полагали на служение благу народному.
В качестве иллюстрации к этим словам послания можно привести следующий эпизод. Известно, что последним Главнокомандующим русской армией был назначен генерал Духонин. Когда он узнал о том, что произошло в Петрограде, узнал о том, что к власти пришло правительство, готовящее сепаратный мир с Германией и уже развалившее армию, он понял, что судьба русской армии решена. Естественно, что даже в ставке Верховного Главнокомандующего начались настоящие бунты, ждали нового комиссара, который придет и санкционирует избиение офицеров солдатами. Духонин мужественно остался в Ставке, дав распоряжение об освобождении из Быхова генерала Корнилова, Деникина и других узников, которых в первую очередь должны были растерзать. Именно благодаря этому они смогли отправиться на Дон и организовать Белое движение как раз в то самое время, о котором мы говорим. А сам Духонин ждал своего конца. Приезжает новый Главнокомандующий, прапорщик Крыленко, и Духовина просто на глазах у этого Крыленко растерзали революционные солдаты с «передовым сознанием». И таких случаев было огромное количество. Убивали генералов, убивали офицеров, убивали чиновников, убивали священников. В послании это и имеется в виду.
…И все это совершается не только под покровом ночной темноты, но и въявь, при дневном свете, с неслыханной доселе дерзостию и беспощадною жестокостию, без всякого суда и с попранием всякого права и законности - совершается в наши дни во всех почти городах и весях нашей Отчизны: и в столицах, и на отдаленных окраинах. Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню геенскому в жизни будущей - загробной, и страшному проклятию потомства в жизни настоящей - земной. Властию, данной Нам от Бога, запрещаем вам приступать к Тайнам Христовым, анафематствуем вас, если только вы носите еще имена христианские, и хотя по рождению своему принадлежите к Церкви Православной. Заклинаю и всех вас, верных чад Православной Церкви Христовой, не вступать с таковыми извергами рода человеческого в какое–либо общение: «Измите злаго от вас самех».
Кого он анафематствует? Большевиков? Что за наивный Патриарх? Он, что же, предполагал, что, узнав об этой анафеме, Владимир Ильич вспомнит свою «пятерку» по «Закону Божию» и покается? А Иосиф Виссарионович вспомнит свои семинарские годы? Он достаточно хорошо представлял себе этих людей и понимал, что большевики, которые даже если по своему рождению являются православными, пренебрегут его словами, ибо они уже давно себя от церковного общения отлучили сами. Тем более это можно было сказать о бывшем католике Дзержинском, о бывшем иудаисте Троцком. Ни до своей веры, ни до чужой им дела не было. Конечно, Патриарх имеет в виду народ, руками которого эти люди хотят развязать в стране кровавый кошмар. О них он говорит, о тех, кто еще недавно причащался, о тех, кто еще не разучился молиться, о тех, у кого есть благочестивые семьи, которые, узнав об этой анафеме, остановят своих отцов, сыновей, братьев. Вот кого имеет в виду Патриарх, вот почему он прибегает к анафеме. Обратите внимание и на формулировку. Речь идет именно о тех, кто участвует в гонениях на Церковь и убивает невинных людей. Патриарх прекрасно знает: если народ остановится, большевики ничего не смогут сделать. И далее, в конце послания, Патриарх предлагает конкретные меры для христиан, как сопротивляться этим разрушительным тенденциям жизни, а они концентрируются, конечно, все больше и больше в большевистской диктатуре. Потом Патриарха будут обвинять в том, что он благословил вооруженное сопротивление большевикам, за то, что он стимулировал развитие контрреволюции этим посланием. Ничего подобного. Обратимся к тексту:
…Враги Церкви захватывают власть над Нею и Ее достоянием силой смертоносного оружия, а вы противостаньте им силою веры вашей, вашего властного всенародного вопля, который остановит безумцев и покажет им, что не имеют они права называть себя поборниками народного блага, строителями новой жизни по велению народного разума, ибо действуют, даже, прямо против совести народной. А если нужно будет и пострадать за дело Христово, зовем вас, возлюбленные чада Церкви, зовем вас на эти страдания вместе с собой словами св. Апостола: «Кто ны разлучит от любви Божия? Скорбь ли, или теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беда, или меч?» (Рим. 8,35)
А вы, братья архипастыри и пастыри, не медля ни одного часа в вашем духовном делании, с пламенной ревностию зовите чад ваших на защиту попираемых прав Церкви Православной, немедленно устрояйте духовные союзы, зовите не нуждою, а доброю волею становиться в ряды духовных борцов, которые силе внешней противопоставят силу своего святого воодушевления, и мы твердо уповаем, что враги Церкви будут посрамлены и расточатся силою Креста Христова. Ибо непреложно обетование Самого Божественного Крестоносца: «Созижду Церковь Мою, и врата адовы не одолеют Ей».
Здесь нет никаких призывов к вооруженной борьбе. Конечно, после этого Патриарх вправе был ожидать каких–то серьезных перемен в положении страны, тем более, что открывшийся Собор 20 января 1918 года сразу же обратился к посланию Патриарха Тихона и 22 января принял постанов ление, в котором одобрил содержание послания и придал ему тем самым силу соборного документа.
Теперь задумаемся. Соборно у нас анафематствовали тех, кто творил всю эту междоусобную смуту, творил все эти ужасы, из которых потом и выросла эта первая в мире рабоче–крестьянская государственность, поправшая всех и вся, в том числе и самих рабочих и крестьян. Пусть каждый из нас пороется в своей памяти родовой, семейной и вспомнит, что делали отцы, деды, прадеды в это время; может быть, и на них падает это анафематствование, и поэтому сделаем для себя какие–то выводы о том, что же нужно делать, как нужно замаливать эти грехи, о которых мы уже так благополучно забыли, как будто к нам это не имеет отношения. Тогда станет понятно, почему нам сейчас так трудно, - потому что мы еще должны искупать десятилетиями все это. Тем более, что Патриарха не услышали. И Собор не услышали. В это самое время, 19–21 января, осуществляется вооруженное вторжение в Александро–Невскую Лавру, и представитель революционного народа убивает протоиерея Петра Скипетрова. Тот хочет остановить его, рвущегося в храм с оружием, а он просто стреляет в обличающие его уста и смертельно ранит протоиерея Петра.
Собору тем временем предстоит обсуждать очень важный внутрицерковный вопрос. Создано Высшее Церковное управление, но вопросы епархиального управления еще не решены. В такой обстановке, учитывая, что на заседании Собора (пока по неизвестным причинам) не появился его почетный председатель митрополит Киевский Владимир (Богоявленский), начинается работа. 25 января 1918 года, после обсуждения декрета советской власти о свободе совести, который уже тогда чаще называли более справедливо декретом об отделении Церкви от государства, Собор принимает постановление, где было два чрезвычайно важных пункта.
Изданный Советом народных комиссаров декрет об отделении Церкви от государства представляет собой, под видом закона о свободе совести, злостное покушение на весь строй жизни Православной Церкви и акт открытого против нее гонения.
Совершенно верная формулировка. И дело было не только в том, что по своему конкретному содержанию декрет представлялся юридическим нонсенсом даже в сравнении с законами об отделении Церкви от государства в других странах, в которых они существовали. Дело было в том, что декрет действительно санкционировал гонения на Церковь, ибо его исполнение могло полностью парализовать всю церковную жизнь.
Всякое участие как в издании сего, враждебного Церкви узаконения, так и попытках провести его в жизнь несовместимо с принадлежностью к Православной Церкви и навлекает на виновных кары, вплоть до отлучения от Церкви.
Нужно сказать, что такая резкая позиция Собора была не только результатом естественной реакции на бесчинства, творимые в стране, на то, что большевистский режим с самого начала стал режимом богоборческим. Можно было и посдержаннее высказаться в этот момент. Но, во–первых, казалось, что этот кошмар долго не продлится и что банда немецких наймитов (именно так многие воспринимали, даже на Соборе, большевистскую диктатуру) скоро уйдет с политической арены. Во–вторых, казалось, что еще немножко, и народ одумается, и, как это было в 1612 году, ополчение, подобное ополчению Минина и Пожарского, придет в Петроград и положит конец государственному безумию, тем более, что в это самое время на Дону начала сражаться добровольческая армия, ничтожная еще по своему количеству (речь шла о нескольких тысячах человек), и эти несколько тысяч человек, казалось, станут залогом широкого антибольшевистского движения в России, которое объединит всех людей с чувством гражданской ответственности, с чувством, хоть самым малым, патриотического долга перед страной. Вот отсюда, может быть, столь резкое заявление.
Через день–два на Собор приходит сообщение об убийстве в Киеве митрополита Владимира 25 января 1918 года. Это, конечно, всех потрясло. Дело не в том, что митрополит Владимир был почетным председателем Собора, и даже не в том, что он был одним из авторитетных иерархов в нашей Церкви и первым убитым архиереем в XX веке, а в том, что обстоятельства его убийства были страшны. Страшны не тем, что его как–то там зверски убивали, его убивали так, как убивали многих, как уже убили, например, о. Иоанна Кочурова. Стреляли многократно, кололи штыками и бросили растерзанного на много часов на улице. Страшено было то, что небольшая кучка вооруженных людей не ворвалась, а вошла (им открыли ворота) в Киево–Печерскую Лавру, расположилась в Трапезной, монахи услужливо подавали им трапезу, они разговорились, выяснили, что главный «угнетатель» здесь митрополит Владимир, пришли к нему в покои, провели там несколько часов, разграбив все, что можно, издеваясь и глумясь над митрополитом, а потом спокойно вывели его и расстреляли недалеко от Лавры. Можно ли представить такую ситуацию: к архимандриту Дионисию в Троице–Сергиеву Лавру входят какие–нибудь поляки с казаками в 1610 году и на глазах у братии издеваются над ним несколько часов, потом уводят и убивают? Комментарии излишни. И только когда его уже увели, один из монахов сообразил позвонить в местные органы большевистской власти и сказать о том, что произошло. Ему сказали, что власти не осведомлены о происходящем. И только через много часов уже окоченевшего митрополита нашли убитым недалеко от Лавры. Конечно, торжественно перенесли в Лавру, торжественно отпели, похоронили, не задумавшись над тем, что его просто предали. Это было самое страшное. Я сейчас не буду говорить о мотивах этого, уже тогда в Украинской Церкви как раз и проявились автокефалистские настроения, и братия Лавры была распропагандирована автокефалами, а митрополит Владимир, который даже автономии для Украинской Церкви не хотел, был ярым врагом для автокефалистов. Тут объяснения можно найти разные, но важен сам факт.
По промыслу Божию Собор принял удивительное постановление 25 января 1918 года, как раз в день гибели митрополита Владимира. Постановление было принято на основе предложения Зб–ти членов Собора, а затем доработано. На него, конечно, очень сильно повлияло сообщение об убийстве митрополита Владимира. Это было постановление об установлении у нас института патриаршего местоблюстительства. Речь шла о следующем. В случае, если Церковь наша будет лишена возможности созвать Собор, если Патриарх будет устранен из церковной жизни, Церковь не должна остаться без возглавления. Собор уполномочил Патриарха, именно учитывая исключительность обстоятельств, назначить себе преемника, и не просто преемника, а преемника с полнотой патриарших прав, назначить его тайно, назначить не одного, а нескольких, дав каждому соответствующие грамоты, не сообщая об этом никому даже на Соборе. На Соборе через некоторое время было заявлено Патриархом о том, что поручение Собора выполнено, местоблюстители назначены. До сих пор мы точно не знаем, кто были эти, тайно назначенные, первые местоблюстители. Собор понимал, что Патриарха могут арестовать, могут убить, а сам Собор могут разогнать. И, действительно, Патриарх впервые был арестован уже в 1918 году.
Постановление о патриаршем местоблюстителе, который обладал всей полнотой патриарших прав, явилось решением, которое спасало наше Высшее Церковное управление в 20–30–х годах от разрушения канонического преемства высшей церковной власти, к чему очень стремились большевики. И Патриарх это принял, Патриарх это реализовал, назначив своих местоблюстителей.
Прежде, чем продолжить повествование, обратимся к личности Патриарха Тихона, к тому, что же он был за человек, каков был его жизненный путь до избрания в Патриархи, потому что, хотя Собор еще работал, все бремя власти полагалось теперь на Патриарха.
Из книги Православные праздники [с календарем на 2010 год] автора Шуляк Сергей7 Апреля – Преставление святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси Святитель Тихон (в миру Василий Иванович Белавин) родился 19 января 1865 года. С ранних лет отец брал мальчика с собой на службу, и любовь к храму стала неотъемлемой частью его жизни. Образование он
Из книги История Русской Православной Церкви 1917 – 1990 гг. автора Цыпин Владислав9 Октября – память святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси Святитель Тихон (в миру Василий Иванович Белавин) родился 19 января 1865 года. С ранних лет отец брал мальчика с собой на службу, и любовь к храму стала неотъемлемой частью его жизни. Образование он
Из книги Святитель Тихон. Патриарх Московский и всея России автора Маркова Анна А.18 Ноября – память святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси Святитель Тихон (в миру Василий Иванович Белавин) родился 19 января 1865 года. С ранних лет отец брал мальчика с собой на службу, и любовь к храму стала неотъемлемой частью его жизни. Образование он
Из книги Голоса из России. Очерки истории сбора и передачи за границу информации о положении Церкви в СССР. 1920-е – начало 1930-х годов автора Косик Ольга ВладимировнаПослание Патриарха Тихона Совету Народных Комиссаров. 1918 г. "Все, взявшие меч, мечом погибнут" (Мф. 26, 52) Это пророчество Спасителя обращаем Мы к вам, нынешние вершители судеб нашего отечества, называющие себя "народными" комиссарами. Целый год держите в руках своих
Из книги Что такое анафема автора Коллектив авторовПослание Патриарха Тихона чадам Православной Российской Церкви. 1919 г. Божиею милостью Мы, смиренный Тихон, Патриарх Московский и всея России, всем верным чадам Святой Православной Российской Церкви.Господь не перестает являть милости Свои Православной Русской Церкви.
Из книги автораЗавещание Патриарха Тихона. 1925 г. В редакцию газеты "Известия" Гр. Редактор! Просим не отказать поместить в газете "Известия" при сем прилагаемое Воззвание Патриарха Тихона, подписанное им 25 марта (7 апреля) 1925 года. Петр (Полянский), митрополит Крутицкий Тихон (Оболенский),
Из книги автора Из книги автораСбор информации о гонениях в комиссии Священного Собора и в канцелярии Святейшего Патриарха Тихона. Распространение посланий Патриарха Начало вытеснения объективных данных о событиях в Русской Православной Церкви из информационной среды было положено уже декретом
Из книги автораКонтакты Святейшего Патриарха Тихона с Патриархами и церковными деятелями за рубежом Первые послания Патриарха Тихона за границу связаны с его избранием на Патриарший престол и интронизацией. Это были послания Главам Православных Церквей. В первые месяцы после
Из книги автораПереписка Святейшего Патриарха Тихона с русским зарубежным духовенством Русская эмиграция на протяжении десятилетий была для Советов средоточием и источником опасности, хранителем и рассадником монархических и буржуазных идей, антисоветских программ и конкретных
Из книги автораДве анафемы Святейшего Патриарха Тихона Послание Святейшего Патриарха Тихона об анафематствовании творящих беззакония и гонителей веры и Церкви Православной 19.01/01.02. 1918 г. Смиренный Тихон, Божией милостью Патриарх Московский и всея России, возлюбленным о Господе